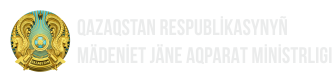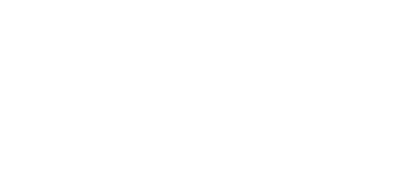Наступил праздник Курбан-айт. Бывший главный счетовод совхоза, а ныне пенсионер Ибраев Курбан, совершив обряд мусульманского жертвоприношения, пригласил в гости своих приятелей «шахматистов», родственников, а также не забыл и про соседей.
Дастархан был полон блюд и выпечки. Как обычно, посиделки завершались партией-другой игры в шахматы… И поэтому, один из приятелей по имени Акшахан – шутник и балагур по натуре, и на этот раз не применул поддеть своего ровесника и друга Азимхана.
– Эй, Азимхан, набей курсак поплотнее! А то, ведь, проиграешь, и будешь оправдываться, что был голодным! Да и они, чтобы потом меня не обвинили, мол «нашел, у кого выигрывать: голодного и слабого всяк может обидеть…», – шутил он, рассмешив тем самым и остальных гостей.
– Надо признать, что баурсаки и выпечка, которыми угощает нас тетушка Зубайра, имеют особо приятный вкус. Но мы, вот, часто повторяем: «хлеб всему – голова…» – и все реже видим его на столе, – заявил Азимхан, пропустив мимо ушей шутку напарника.
– Накрывая дастархан, мы для гостей ставим все лучшее, не придавая при этом значения простому хлебу, – вмешался аульный имам Абулхаир, – наверное, хвала Аллаху, люди стали жить лучше, так пусть и будет это признаком достатка!..
Разговор от сытого и мирного сегодняшнего дня, естественным образом, перетек в голодные 30-е годы… Хозяин дома Курбан-ага, любивший степенно выслушать каждого, помедлив, будто вороша в памяти что-то забытое, произнес:
– Дорогие, хотел бы вам поведать о том, что однажды видел я могилу, в которой было похоронено два человека… Они скончались от голода, вернее сказать погибли, потому что у них не было хлеба и негде было в то время его найти…
После окончания средней школы, я учился на шоферских курсах и остался водителем в родном совхозе имени Энгельса, который находился в Созакском районе. Помню, в 1965 году нам – опытному водителю дяде Арыстану и мне – было поручено перевозить лес со станции Туркестан для строительства Дома культуры в центральной усадьбе совхоза.
Целый день мы осматривали и приводили в порядок свои грузовики, а на следующий день спозаранок уже двинулись в путь. Преодолев несколько речушек, мы выехали на едва различимую заброшенную дорогу. У меня складывалось впечатление, что дядя Арыстан, который ехал впереди, хорошо знаком с этой местностью. Наконец, внизу осталась равнина, и машины часа два-три урчали по серпантину предгорий. По одну сторону этой дороги тянулось глубокое ущелье. Прошло ещё около часа, пока мой напарник резко не свернул направо и, проехав немного, не остановился возле одного пригорка. Поставив свою машину рядом, я тоже заглушил мотор и сошел на землю.
– Курбан, залезь на машину и подай там одну палку, – сказал Арыстан-ага. Не заставляя повторять дважды, я быстро запрыгнул в кузов и взял заточенную с одной стороны палку, похожую на черенок кетменя.
Погруженный в глубокое раздумье, дядя Арыстан, немного помолчав, кивком позвал меня за собой и сам пошел вперед. В шагах 40-50-ти от того места, где стояли машины, в расщелине оврага, он забил эту палку на краю маленького холмика со стороны Каабы. Затем, вытащив из-за пазухи белый кусок ткани, привязал его к верхнему концу этой палки.
После продолжительной паузы он опустился на колени и стал читать суры из Корана. Сообразив, что безвестный холмик является могилой, я тоже присел рядом с ним и, присоединившись к молитве, совершил ритуал поминания усопших.
– Немало лет прошло с тех пор, как был я здесь в последний раз. В эти дни, кроме меня, никто и не знает об этих несчастных, останки которых лежат здесь. Я даже и не слышал, как звали этих бедняг, – грустно заметил дядя Арыстан.
Мне не хотелось нарушать ход его тяжелых воспоминаний. Мы, молча, дошли до места, где стояли машины. Я залез в кабину, достал одеяло и газету, расстелил их на траву и мы сели пообедать. Подкрепились, вкусно приготовленными казахскими «казы-карта» и мой старший напарник, завершив эту трапезу на природе молитвой за упокой душ, некоторое время сидел молча.
– Как помню, было начало лета 1931 года, самые жаркие дни еще не наступили, – начал свой рассказ Арыстан-ага. – Народ повсюду вымирал от голода и мора. Вот эта небольшая площадка была местом, где раньше стоял дом нашей семьи.
Беда и нас не обошла стороной. От истощения мы едва волочили ноги. В то время мне не было около пятнадцати. Единственным нашим богатством и спасением были наши козы. Что касается хлеба, то его мы тоже видели очень редко, да и то на пару раз откусить. Как старшему из детей мне было поручено смотреть за нашими пятью козами и одним козликом, вовремя выпасать и поить из близлежащего родника.
Иногда отец верхом на ишаке уходил в горы проверить, поставленные ловушки и капканы. В такие дни мы ждали его с нетерпением, не сводя глаз с тропинки, и всегда просили Всевышнего, чтобы он вернулся с добычей.
Если его голос раздавался издали и звал нас по именам: «Арыстан! Асылхан!» – то это значило, что он возвращается с удачей, – продолжал ага приглушенным голосом. – В таких случаях наша мать, прослезившись, повторяла: «О, Аллах, благодарны за милость твою, каемся мы перед тобой…». Еле передвигая ноги, мы с младшим братом встречали отца.
Я, дорогой мой, с той поры очень хорошо знаю, какой бывает настоящая радость. В такие часы казалось, что нам дарована божья милость, и мы навсегда распрощались со всеми бедами.
Однажды отец, посмотрев мне в глаза, сказал: «Сынок, будь осторожней с козами. Вчера с северной стороны видел две чернеющие точки. Похоже, это люди. Судя потому, что не пришли ко времени, едва ходят. Кто может знать их намерение?! В любом случае будь бдителен».
На сей раз он и траву стал косить вблизи от дома. На следующий день к обеду я тоже заметил, что с севера к нам медленно движутся две маленькие фигурки. Рядом с ними величиной с крошку проглядывала еще одна. Наверное, с ними ребенок?!
Съев скудный обед, приготовленный матерью, – небольшую пиалу молока с накрошенными травами, мы собирались уже выходить, как вдруг услышали, что кто-то подошел к дому и рухнул возле порога. Мы быстро выскочили наружу, рядом с дверью лежала женщина. Глаза ее глубоко запали вовнутрь, она еле шевелила ресницами.
Моментально сообразив, в чем дело, мать зашла в дом и вынесла пиалу молока. С помощью отца приподняла голову несчастной и две ложки молока влила ей в рот. Женщина, с трудом глотая, потеряла сознание.
– Пока достаточно. Сильно изголодавшему пищу нужно давать понемногу. В противном случае, если она попадет в голодный пищевод, то, бедняга, может сразу умереть, – говорил отец, перенося эту женщину в тень дома и укладывая на расстеленную кошму. Придя в себя через некоторое время, она открыла глаза и дрожащими губами прошептала:
– Отстали. Они остались на холме, – затем слабо махнув рукой в ту сторону, откуда пришла, она снова потеряла сознание.
Отец, подсадив меня на ишака, пошёл в том направлении, куда указала эта женщина. Когда мы приблизились, то увидели лежавшего в полусознании мужчину, заросшего бородой и усами, с трудом открывавшего ввалившиеся глаза. Поодаль, в десяти-пятнадцати метрах от пригорка лежал мальчик лет девяти-десяти, он был похож на живого скелета.
С большим трудом, поддерживая с обеих сторон, мы усадили на ишака сначала мужчину, а затем прислонили к его спине ребенка. Отец шел, придерживая их, а я тянул повод животного.
Как только дошли до дома, мать, встречавшая нас, осторожно сняла ребенка, отец же качавшегося мужчину опустил на землю. Уложив их на кошму, мать в большой пиале вынесла молока. Видя, что ребенок находится в тяжелом состоянии, вначале пару ложек дали ему. Мальчик, мучительно сделавший два глотка, раскрыл глаза и испуганно посморел по сторонам. Увидев и узнав ласковый взгляд своей матери, лежавшей рядом, ребенок из последних сил прошептал: «Мама…, хлеб…», – и через минуту душа его покинула истощенное тело.
Отец, зная, что ребенку уже ничем не помочь, оставив его, приподнял голову мужчине. Лежавший с полуоткрытыми глазами, он неожиданно быстро обеими руками схватился за чашку, вырвал её из рук матери и стал жадно глотать молоко, расплескивая и проливая его.
– Тебе же нельзя! Отпусти! – пытался остановить и отобрать у него чашку отец. Но мужчина, не слушая его, вцепился в чашку, словно клещами, и не отпускал до тех пор, пока не осушил её до дна…
– Эх, зря, зря, не надо было давать! Лишь бы теперь не отравился, – сожалел отец. И опасение его оправдалось, мужчина, так и не придя в полное сознание, закрыл свои веки…
Все происходило на глазах этой женщины, она пыталась плакать, но слез у неё не было, только в страдальчески скрюченном её теле слабо вздрагивали плечи.
Не ожидавший подобного исхода отец долго молчал, потом встал и побрел в пристройку дома. Через некоторое время он вернулся, держа в одной руке кетмень, а в другой лопату. Положив инструменты на землю, он некоторое время о чем-то советовался с матерью. Мать, зайдя в дом, вынесла немного молока и дала его выпить женщине, которая лежала, приподняв немного голову. По глазам её было видно, что смерть от неё отступала.
Мать помогла отцу взвалить труп мужчины на ишака, отец поднял легкое, как пух, тело мервого ребенка и направился к оврагу. Поняв замысел отца, мы с матерью помогли положить останки в расщелину оврага, головой по направлению к Каабе.
Откуда было взять силы, чтобы выкопать могилу. Тело мальчика отец положил рядом с телом его отца. Сказав «Биссмилла», отец и мать кетменем и лопатой, а я руками стали засыпать трупы в овраге землей и комьями. Сами едва живые, мы оказали последнюю почесть ушедшим навеки. Произвели, как могли, ритуал захоронения, а отец прочитал заупокойную молитву…
По истечении дней, женщина пришла в себя, немного окрепла, сказала, что ей тридцать два года и сама рассказала обо всех злоключениях, выпавших на их долю.
– Я родом с Сары-Арки, была дочерью среднезажиточного скотовода. В семнадцать лет к нам посватался сын одного бая и, пока судили да рядили, когда пригласить сватов, когда установить день свадьбы, мне на одном из празднеств выпало состязаться в поэтической импровизации с человеком, который стал впоследствии моим мужем – я тогда выиграла.
Муж сочинял стихи и хорошо пел, принимал участие в управлении волостью. Он тоже был любимым сыном другого бая, имевшего в Арке многочисленные стада. Предыдущая его жена не смогла разродиться и умерла при родах. Увидев меня, он влюбился до потери памяти. В конце концов, украл меня, и мы поженились.
Жили мы душа в душу. Не раз я была беременна, но двое младенцев умерло, и мы остались с единственным ребенком.
Советская власть всех угробила: конфисковала весь скот, а людей погнала в Сибирь, туда, где ездят на собачьих упряжках. После очередного страшного голода и джута народ почти вымер, а часть пропала без вести. Мы остались вдвоем: голодные и никому ненужные. Родственники, которые спаслись от суда, не смогли уберечься от голода…
Мой сыночек был последним потомком благородной династии. Едва сводя концы с концами, мы выкарабкались из зимы, однако для дальнейшего проживания ничего не смогли найти. Недаром, ведь, говорят: «Златом-серебром сыт не будешь, коли, нет овса с пшеницей!».
Наступили времена, когда на золото, как на медный грош, ничего не купишь. Прослышали от других, что люди, у которых остались силы и могут в дороге прокормиться, уходят в южные края, за Ташкент…
Два месяца назад, мы тоже, бросив восьмикрылую большую юрту, со всей утварью, дорогими и памятными вещами, вынуждены были покинуть родину. Муж выменял все свои сбережния и золотые вещи на продукты, и мы вышли в дорогу. А всего-то у нас из съестного оказалось – четыре каравая хлеба и полпуда жареной пшеницы с просом. Скотины, чтобы использовать под транспорт, никакой не осталось. Все, что не успели конфисковать и не унес джут, было съедено лютую зиму.
Вот так и вышли пешими, да налегке. В дороге не было числа умершим, ослабшим и пухнушим от голода. Тяжело об этом вспоминать. Мы видели людей, которые ели человечину, разрывая на куски трупы умерших людей. Раньше я покрывалась вся мурашками, когда видела, как режут скотину, а в эту пору, будто в затянувшемся сне, не обращаю внимания на трупы и жестокость. Как то стали очевидцами страшной картины: пять-шесть человекоподобных существ, измазанные кровью, сновали по кругу. Потерявшие от голода последний разум, завидя ослабшего, они бросились на ещё живое и теплое тело…
Сколько бы мы не старались держаться, но продукты таяли на глазах. За неделю до того как мы сюда пришли у нас все закончилось. Мы еле добрались до родника. Вначале нам, изнуренным голодом и жаждой, вода показалась живительной, мы вначале даже взбодрились. Но холодная вода, попадая в пустой желудок, знобит изнутри и сковывает все тело мертвой хваткой.
Переживая за сына, который час на глазах и почти не мог передвигаться, я отщипнула от последней краюхи хлеба, оставшейся на дне торбы, маленькую корочку. Это увидел муж, подскочил к нам, и, вырвав из моих рук весь оставшийся хлеб, пошел от нас прочь. Я поняла, что от голода он потерял разум. Зову его по имени, но он лишь смотрит бесцветными глазами и молчит. О, Боже милостивый! Впрочем, я этому не сильно удивилась. Отщипнула корочку хлеба для сына и положила остаток обратно в мешочек.
Потом я подумала – вот, если бы к этому кусочку чего-нибудь прибавить… Обозленная и обиженная я стояла в бездействии и вдруг в нижнем рукаве родника заметила сидящую лягушку. Будто желая всю злость выместить на ней, я быстро подскочила к лягушке, откуда такая прыть – не знаю, и ловко поймав её на лету, с размаху шмякнула о береговой камень. Бедная лягушка на том же месте и стала нашей с сыном трапезой.
Когда возникла мысль, что лягушка не должна здесь быть единственной, я снова против воли вскочила с места. Долго ли искала – не знаю, но, всетаки, наткнулась и на вторую. Как и в первый раз бросила о камень, затем острой гранью маленького камня распорола и ополоснула в воде внутренности.
В какой-то миг я заметила, что невдалеке от родника муж оставил ружье и сумочку для патрон. Перекинув через плечо торбу с очищенной лягушкой и сумочкой для патрон, а через другое – ружье, я с сыном, которому не было еще и десяти, побрела вслед за мужем, маячившим вдалеке, словно мушка перед глазами. Из-за общей слабости мы не могли долго идти и все чаще и чаще делали передышки.
Отец моего сына, не сумев далеко уйти, сидел на обочине дороги. Когда мы приблизились и сели поодаль, он зло нахмурился, а затем встал и пошел дальше. Так, он убегая, а мы догоняя, шли еще довольно долго.
– Мама я устал, хочу кушать, – опять запричитал ребенок, хотя на прошлом привале мы успели съесть и вторую лягушку. Правильно сказано, что «у джута семь братьев». По дороге мы не встретили ни одной живности: ни зверя, ни птицы. Когда сгустились сумерки, мы нагнали мужа. Чтобы не потярять ориентир, упали без сил на южную сторону холма. Сынок, как обычно, ищущий у своего отца защиты и ласки, принялся хныкать:
– Коке, дайте мне кусочек хлеба!..
Отец его сделал вид, что ничего не слышит, а затем со злостью прикрикнул на сына:
– Заткнись! У меня нет никакого хлеба!..
Оборвалась слабая надежда получить кусочек хлеба, и, не умея себя сдерживать, ребенок тихо всхлипывал и вздрагивал, прижавшись к моей груди. Никогда в жизни я не перечила мужу, однако, на этот раз выразила ему свою обиду.
– Отец, – сказала я, сдавливая слезы. – Я, может быть, вам и чужая, а он же ваше родное копытце, наследник от вашей поясницы… А вы жалеете от собственного сына, который целый день плетется за вами, маденькую корочку хлеба! – Я пыталась образуметь его, призывала к милосердию…
– Хлеба нет. Осталось мало. Ладно, завтра я дам кусок, – ответил он, выказав тем самым, что разговор окончен. А утром его отец украдкой опять ушел от нас. Я достала из торбы высохшую корочку хлеба и отдала её сыну, а сама стала собирать и пробовать траву вокруг нас. Пожую-пожую – горькую выплюну, попадется пресная – проглочу: думаю, что все какая-то пища…
Сыночка то пытаюсь нести на спине, то вести на поводу за ручку, наконец, вдалеке опять замаячил силуэт мужа. Завидев едва идущего отца, ребенок опять начинал плакать, жалуясь на боли в желудке.
– Жизнь моя, что я от тебя могу пожалеть? Ты же и сам видишь, что у нас ничего не осталось! – Шептала я сквозь слезы, которых почти и не было. Он прислушивался, и некоторое время молчал, потом снова начинал просить:
– Апа, очень есть хочется! Сейчас, как догоним папу, ты ему тоже скажи, чтобы он своему сыну дал хлеба. Не могу дальше идти, сил больше нет! – Я успокаивала:
– Хорошо, скажу, обязательно попрошу. Что же я еще ему могла ответить. Выбившись из последних сил, мы добрались-таки до того места, где отдыхал наш хозяин. Сын, подошел к отцу, который, отвернувшись, делал вид, что его не замечает, и начал умолять его:
– Я умираю, коке… Дайте мне, хоть, корочку хлеба!
– Пошел ты, подальше! Нет у меня хлеба, чтобы дать тебе! – огрызнулся отец и пнул своего сына… Увидев беззащитного сына, я не выдержала и заплакала навзрыд. Но отец его не подал никаких признаков сострадания.
– Отдай свой нож! Чем видеть страдания этого ребенка, лучше я убью его собственноручно! – В сердцах воскликнула я, не сдержавшись. Посмотрев на мужа, который кинул к моим ногам свой нож вместе с кожухом, я была ошеломлена – лицо нашего джигита ничего не выражало. Даже померещилось, что он, как бы, не против мной сказанного.
Впервые в жизни, я вглянула на мужа с ненавистью и закричала: «Лучше я отрежу кусок мяса от своей ноги, но, ни за что, не дам обидеть этого ребенка!». Он бросил на меня свой холодный взгляд, встал и пошел своей дорогой. С того момента я стала, по-настоящему, опасаться мужа.
Когда я думаю о том, что на самом деле, потеряв рассудок от голода, он мог живьем зарезать и съесть свое родное дитя, меня пробирает озноб и начинает трясти. С этого момента мы уже к нему не приближались и держались от него подальше.
Еле переставляя ноги, я приблизилась к какому-то широколистому растению и намеревалась выкопать его с корнем, как, вдруг, заметила толстую пеструю змею, лежащую в его тени. «Самый главный хищник – это человек», – подумала я тогда. Обычно, до ужаса боявшаяся змей, я тут не испугалась ничуть. Как-то, даже, обрадовалась, что ли?!
Посадив сына поодаль, я бесшумно приблизилась к ней со стороны хвоста. Она меня не почувствовала и, кажется, спала. Я с удивительной быстротой схватила её за хвостовую часть и начала со всей силой бить её об землю. После этого, отрезав голову убитой змеи, мы вдвоем с сыном немного подкрепились. Угостила кусочком и своего хозяина, которого мы нагнали, так как он лежал уже в полуобморочном состоянии. Тогда я ясно поняла, что мужчины слабее женщин.
Ваш дом мы заметили еще издалека. Однако дойти до вас нам казалось невозможно. Муж не мог уже ходить, и я оставила лежать его на том же месте. Сына же, чтобы он не нароком его несъел в мое отсутствие, я уложила подальше, а сама добралась, вот, до вас…
– Плакала бедная женщина, закрыв лицо руками, и мать моя тоже ей горько и слезно сочувствовала, а я незаметил, что плачу вместе с ними, – говорил Арыстан-ага, продолжая свое повествование. – Женщина немного набралась сил, глаза её встали на место, и она начала помогать нам по-хозяйству: косила сено и убирала по дому.
Потом я помню, как родители стали собирать её в дорогу. Из недельного запаса молока от пяти коз приготовили курт. Отец ей все время объяснял, какие в этих краях растения съедобные, а какие нет.
Перед расставанием с ней, мы все вместе сходили к тому месту, где похоронили её мужа и сына. Отец читал суры из Корана. Если бы ты видел, парень, как эта женщина рыдала, обняв могилку, – промолвил дядя Арыстан и сам, не сдержавшись, затрясся в плаче.
– Верблюжонок ты мой, жеребеночек! Былиночка единственная от всего рода, не сумела сберечь я тебя, не сумела! Прости ты меня несчастную, душенька моя прости! Что же мне делать, куда мне теперь без вас?! Будь покоен, родной, да будь милостив! – Так она причитала над могилкой и нежно гладила холмик, что мне казалось, будто она гладит и ласкает голову собственного сына…
Немного погодя отец объяснял ей как дойти до Туркестана, а дальше, как попробовать сесть на поезд до спасительного Ташкента, а мать все укладывала ей в дорогу «таба нан» и курт в мешочке. Мы все в тот миг были расстроены. Она, прощаясь и уходя от нас, все оглядывалась, то в нашу сторону, то сторону могилки…
С той поры прошло много лет. Бедняга, дошла ли она до своей цели?!
Кого сейчас винить, что погибло тогда от голода столько народа, а кто ответит за этих двоих горемык, смерти которых я был свидетелем? Кто же про них теперь вспомнит кроме меня?
В этом заключается секрет того, что я чтение молитвы всегда завершаю словами: «Да пусть воздастся милость Всевышнего душам без вести пропавших и без вины почивших…», – с дрожью в голосе сказал дядя Арыстан.
Немного спустя мы сели по машинам и тронулись в дальнейший путь, покинув это памятное место, – сказал Курбан-ага, завершая свой рассказ.
Гости притихли. Слышно было как всхлипывала жена Акшахана – Зухра. Расстроенная женская половина шмыгала носами. Люди смотрели на хлебные изделия, которыми изобиловал дастархан и, кто-то из них, возможно, впервые задумался о хлебе, о той великой цене простого хлеба для человеческой жизни.
– Так называемый, «Малый Октябрь» Голощекина и, иже с ними, стал невиданной трагедией для нашего народа. В 1930–1931 годах, по историческим данным погибло около 4 миллионов казахов, то есть более половины прежнего населения Казахстана, – продолжил разговор Ақшахан.
– Следует читать Коран за упокой всех тех душ, которые ушли от нас во времена бедствий, голода и джута, – сказал имам Абулхаир.
Да, и Вы, дорогие братья и сестры, почтите святую память безвинных жертв в годы всенародной трагедии!
Женисгуль ЖУМАБЕК-КЫЗЫ,
Шымкент